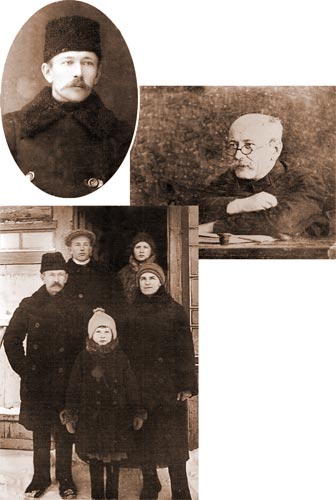Песковский Матвей Леонтьевич
Матвей Леонтьевич Песковский – публицист, писатель и педагог, родился в 1843 году в Витебской губернии в семье священника. Успешно окончил Витебскую духовную семинарию, затем Петербургский университет по естественному отделению физико-математического факультета.
В 1873—1874 годах состоял преподавателем естествознания в Училище для распространения сельскохозяйственных, технических и ремесленных знаний и для приготовления учителей Вятского земства (Вятская земская учительская семинария).
С 1875 года жил в Санкт-Петербурге, занимался литературно-журналистской и педагогической деятельностью. Принимал близкое участие в изданиях «Голос», «Русское обозрение», «Молва», «Порядок»; писал в «Вестнике Европы», «Русской мысли», «Русской старине», «Русской школе», «Нови» и других.
Отдельно Песковским были изданы: «Роковое недоразумение. Еврейский вопрос, его мировая история и естественный путь к разрешению» (1891), «К. Д. Ушинский» (1892), «H. A. Корф» (1893), «В глуши» (1893).
Скончался 29 января (11 февраля) 1903 года в Санкт-Петербурге.
Из воспоминаний «НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ»
Песковский Матвей Леонтьевич
Семинария эта, в ту по крайней мере пору, когда я учился очень выгодно отличалась от всего того, что обыкновенно принято думать и говорить об этого рода заведениях. И на этом нельзя не остановиться, как на характерном и поучительном явлении даже в общей истории нашего русского школьного дела.
Года за два до моего поступления в семинарию, она была переведена из города Полоцка в город Витебск, продолжая, однако, называться Полоцкою, как называется и сам епархия. Здание семинарии находится в самой лучшей части города, на возвышенном левом берегу Западной Двины, в местности, бывшей в ту пору излюбленной для прогулок отборной городской публики по бульвару у семинарии, откуда открывался роскошный вид. Часть города на противоположном правом берегу и прилегающие к городу поля, луга и леса на много верст – все это – как на ладони с бульвара, а тем более – из окон семинарии.
Перевод семинарии произвел заметно благоприятное впечатление в город. Прежде всего, семинаристы оказались скромными, благовоспитанными, а главное – веселыми людьми. Они хорошо пели духовные и светские песни, да, кроме того, имели и недурной оркестр. В свободное от занятий время, кроме, конечно, великопостных дней, в семинарии обязательно происходили пение, музыка и пляс. Это привлекало прежде всегда к зданию семинарии громадные толпы гуляющих. Вместе с тем, городское общество обратило внимание на семинаристов и как на проповедников. В праздничные дни воспитанники старшего класса расходились по приходским городским церквям для произнесения проповедей или по назначению семинарского начальства, или добровольно. И, надо правду сказать, что проповеди семинарских юнцов в ту пору, серьезно продуманные, старательно обработанные и недурно, по указанию учителей, произнесенные, не проходили не замеченными в городе. Что же касается проповедей, произносимых учащими и учащимися в своей домашней церкви, то они нередко заставляли говорить о себе в местном обществе. Это обстоятельство в связи с превосходным пением привлекало в скромную, уютную семинарскую церковь самую избранную публику, не скупившуюся обыкновенно выражать свои симпатии семинарии и семинаристам.
Так это было не только на первых порах после перевода семинарии в губернский город, но и во все время учения моего в семинарии, т. е. до 186… года. В противность тому, что обыкновенно приходится читать и слышать о духовных семинариях и их питомцах, я, на основании только того, что лично сам видел и пережил, считаю долгом засвидетельствовать, что местное общество относилось к семинаристам с большой симпатией и уважением; что первенствующую роль играла отнюдь не гимназия, а семинария, само здание которой, к слову сказать, совсем заслоняло собою находящееся по соседству с ним здание гимназии, остававшееся совершенно незаметным.
Указанное отношение общества оправдывалось и поведением семинаристов. Они, вообще, пользовались большою свободою. Не только по праздникам, но и в будни свободно разгуливали по городу, кому то нужно было, хоть до поздней ночи, – и никогда ни малейших недоразумений по этому поводу, ни тени каких-либо претензий и жалоб со стороны губернской администрации и полиции.
Для характеристики семинарских нравов, можно, между прочим, указать на следующий довольно характерный факт. Непосредственно за каменной оградой семинарского двора находилось здание гимназии, выходившей окнами верхнего яруса на семинарский двор. Таким образом, семинария и гимназия стояли прямо окнами друг к другу, будучи отделены лишь обширным семинарским двором. Этот двор давал возможность семинаристам развернуться в играх, и там зимою и летом происходили оживленнейшие игры. Это в высшей степени интересовало гимназистов, которые, обыкновенно, не только битком набивались в окна гимназии, но и вплотную облепляли каменный забор семинарского двора. И это решительно никогда не подавало ни малейшего повода к какой-либо недостойной выходке, оскорбительному замечанию или грубому слову, вообще к столкновению.
Такое поведение семинаристов обусловливалось разумною постановкой всей вообще учебно-воспитательной системы, делавшей это заведение бесспорно рассадником среднего образования. Кроме того рассадник этот оказал еще и ценную услугу губернии в описанную мною пору. Как было уже указано выше, ополячение всего Северо-Западного края, в том числе и Витебской губернии, имело повальный характер. Во второй, например, половине 50-х годов почти во всех присутственных местах обязательным разговорным языком был, безусловно, польский. Я помню, например, как мой дядя по матери и мой старший брат, состоявшие на гражданской службе в разных учреждениях, вынуждены были начать понемногу подучиваться польскому языку. Это вызывало большое негодование и их стороны, тем более же со стороны дяди, как человека, имеющего уже за 50 лет; тем не менее, оба они считали невозможным не подучиваться по-польски, из опасения не только потерять занимаемые ими служебные места, но и вовсе не найти себе никакой казенной службы. Такое насилие над русскими людьми проделывалось удивительно ловко и тонко – в виде дружеских советов, попреков в шутку, но, ни в каком случае, не в форме требований и приказаний. Тем не менее, непослушным к этим, по-видимому, мягким «советам» и совсем безобидным «попрекам» прямо-таки приходилось бросать службу. Поляки же со своей стороны проявляли наоборот глубочайшее неведение русского языка, которое, явно усиливаясь, быстро дошло до полной неспособности поляков объясняться по-русски хотя бы даже с теми самыми русскими, с которыми они раньше вместе росли, играли, учились и служили. Вместе с тем, со стороны поляков все настойчивее проявлялось стремление к явному осмеянию, преследованию и угнетению решительно всего русского, начиная с речи и песни и кончая костюмом, образом жизни, религиею и проч.
Семинария служила серьезным и существенным противовесом ополячиванию. В этой роли она особенно заметно проявила себя именно после перевода в Витебск, потому что это обстоятельство – как будет объяснено ниже – послужило ей поводом и даже толчком выдвинуться на видное место. Это учебное заведение, совершенно чуждое по духу хоть чего-нибудь, напоминающего религиозную и племенную вражду и рознь, именно в силу здоровой, целесообразной постановки учебного курса, имело настолько сильное и рациональное обрусительное влияние, что, например, дети завзятых униатов, в домах которых разговорным языком обязательно был только польский, пройдя через семинарию, становились сознательными, убежденными русскими. Несмотря на знание многими из учащихся польского языка и полное отсутствие запрещения говорить по-польски, в стенах семинарии, однако, никогда не раздавалось ни одного польского слова. Короче говоря, семинария имела явно и благотворно-обрусительное влияние чисто воспитательного характера – как по своему воздействию на местное общество, так и еще более по тому, что выпускаемое семинариею духовенство было сознательно русское и православное, не способное уже, подобно его предшественникам, колебаться в ту или иную сторону, под влиянием какой-либо случайности.